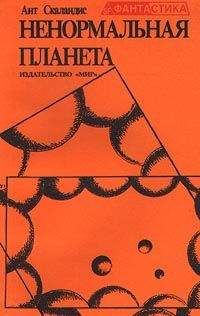Ознакомительная версия.
– Ну что ж. Куплю я вам всем мороженое после соревнований, – пообещал Михаил Антонович.
– Ага. Эскимо в форме кубков! – засмеялся Саня. – Мороженые кубки!
Валька смотрел на меня. Он смеялся, что-то говорил Мите и время от времени взглядывал на меня. И я сейчас порадовалась, что он не сел со мной. Так мы лучше видим друг друга.
– Нет, это кубки победителей будут в форме эскимо!
– Одно не исключает другого! У них кубки в форме эскимо, у нас – эскимо в форме кубков!
– А может, у нас кубки, у них – эскимо?
Все запутались в этих «кубках эскимосских» и смеялись.
– А почему вы не предполагаете, что среди нас едут победители, у которых будут настоящие кубки? – спросил Михаил Антонович.
– Ну да… может так быть, – Митя пожал плечами, – конечно. Запросто! Вон, Маша Муравская ка-ак дернет к финишу!
Митька самый старший тут был, он и вел себя соответственно.
– Победит, а потом про себя в газете пропишет, – добавил Саня.
– Особенно если у нее башмаки стянут! – хохот.
Пусть смеются. Валька смотрел на меня, и я замирала от его взглядов. Какие у него черные глубокие глаза! Вырыли во мне колодец, где все его взгляды, слова…
У меня четырнадцатый номер. Хорошо, что мы позже подошли и мне не достался тринадцатый. Наверное, ничего плохого нет в числе «13», но я его традиционно побаиваюсь. Как и черную кошку. «Черный кот, перебегающий вам дорогу, означает, что животное куда-то идет. Не усложняйте жизнь ни себе, ни ему», – прочитала я как-то ВКонтакте. Даже взяла цитату себе на стену. И все равно смотрела с опаской на всех черных кошек. Массовый психоз и на меня действует. Вот так и с числом «13».
Прогремел стартовый пистолет, и участницы понеслись. На старте десять лыжней, которые вливались в одну метров через сто. Я выскочила на лыжню первой. Замелькали наряженные в меха ели, сосны, мягкие заснеженные лапы, рыжие стволы… Но на соревнованиях не замечаешь красоты, в мыслях только одно: быстрей к финишу! После первого километра (километраж отмечен на стволах деревьев фанерными квадратиками) меня обогнали. Так… первой уже не приду. Ничего! Почему я решила, что буду лучшей? Второй тоже неплохо. Стало жарко, и дышать тяжело, и глаза, кажется, выскочат из орбит, и сердце бьется, как сумасшедшее, но я знала, что скоро, примерно через половину пути, придет второе дыхание. И будет легче. Вот и еще одна участница впереди меня, под номером двадцать. Что это я? А как же моя секция, мой взрослый первый разряд, мой трехлетний спортивный опыт? Нет, поднажать и догнать! Номер двадцатый, не радуйся, я за тобой, я наступаю тебе на пятки, вот-вот я тебя обгоню… Что ж ты делаешь, редиска? Двадцатый номер совершает маневры, которые не дают мне его обогнать. Так нечестно! Эй, двадцатый! Слышишь? На самом деле я ничего не говорю, надо беречь силы – это раз, двадцатый все знает – это два. Ха! Участница не в курсе, что позволяет себе запрещенные приемы? На спуске только одна лыжня, спуск узкий, тут нет места для конькового хода. Я изо всех сил оттолкнулась палками, чтобы, скатившись с горочки, тут же обойти соперницу… Секунда, я лечу со спуска носом вниз, моя лыжа трещит, ломается, я со всего размаху падаю и ударяюсь ногой о нетолстую сосну, стоящую к лыжне чуть-чуть ближе, чем остальной ряд деревьев. Сверху, с веток, на меня посыпалась снежная крошка. Боль, казалось бы, невыносимая, пронзает меня всю, локализуется в ноге, я стискиваю зубы, чтобы не закричать. С трудом отползаю от лыжни, чтобы не мешать соревнующимся.
Приехала! Вот мой финиш! Под сосенкой!
Двадцатый! Ты свинья! Но я знаю, что ничего не смогу доказать, никто мне не поверит, а если поверит, не примет к сведению, потому что свидетелей на дистанции нет. Участница же под номером «20» все будет отрицать. Злость на двадцатый перехлестывает боль, я плачу, слезы катятся по щекам и застывают ледяными дорожками. Я ничего не смогу сделать этой девчонке, деревья будут молчать, а больше никто не подтвердит, что мне сделали подсечку лыжной палкой. Я лежала под елками рядом с молодой сосенкой, о которую, ударившись, сломала или вывихнула ногу. Боль! Боль рвала ногу на части. Мимо промчалась лыжница, еще одна… я попыталась подняться и не смогла. Такого у меня еще не было и не было такой боли никогда. Лыжи я, правда, ломала, но обходилось без телесных повреждений.
Меня, конечно, видели все проносящиеся мимо лыжницы, но никто не останавливался. Думали – упала участница, поднимется и пойдет дальше. На трассе не падают, что ли? Да сколько угодно!
Стало холодно. Холод начал пробираться внутрь… Мне стало страшно. Кричать спортсменам бесполезно. Кто будет тратить драгоценное время на какую-то соперницу?.. Кому надо. Я лежала на земле, пытаясь устроиться на лыже, на той, уцелевшей. Лыжа – узкая пластиковая дощечка, но все-таки часть моего тела не на снегу. Другая лыжа виднелась яркой линейкой впереди, носок у нее напрочь сбрит и торчали неровные острые, как иглы, щепки. Я лежала, подогнув под себя здоровую ногу и вытянув другую, которую сломала или вывихнула. И особенно обидно, что в моей неудаче был виноват человеческий фактор, участница под номером «20».
Все лыжницы пробежали. Михаил Антонович, конечно, увидит, что меня нет, пришлет на помощь. А пока… а теперь… бегут юноши. Их дистанция – десять километров, два раза по пять. То есть побегут они по этому же маршруту. Им уже дали старт, сюда донесся еле слышный хлопок стартового пистолета.
Из-за поворота показался первый лыжник.
Да это же Валька! Номер восемнадцать! Он первый! Четыре километра, а он все еще первый, вот молодец! Может, хоть среди юношей наша школа победит!
От боли и холода я закрываю глаза.
Когда же за мной придут? Неужели только после соревнований? Я же замерзну тут, в этом роскошном торжественном лесу.
И тут же кто-то резко тормозит рядом. Из-под его лыж летят снежные брызги, оседающие на моем прохладном лице.
– Что с тобой? – Валькин голос.
Он сошел с дистанции, увидев меня. Он не стал побеждать! Хотя победа была вон за теми елками!
Валька снимает свои лыжи, и с меня – уцелевшую лыжину.
– Беда мне с тобой, – ворчит парень, – то коньки, то лыжи… тебе надо дома сидеть… на печке. Вставай!
Он помогает мне подняться. Я не могу опереться на поврежденную ногу, я держусь за его плечо и пытаюсь скакать на одной, здоровой, ноге. Не могу: нога затекла.
– Ты что, ногу сломала? – Валькин встревоженный голос.
Я плачу от боли.
– Ничего себе!
Он прислоняет меня к дереву и, присев на корточки, рассматривает мою поврежденную конечность.
– Да-а… дела… как сажа бела.
Руки мои превратились в крюки. Они не гнутся. Валька поднялся и поверх куртки стал растирать мне руки, плечи, спину. Подобрал сломанную лыжу, рассмотрел и выбросил в лесную гущу.
– У тебя есть телефон?
– В кармане брюк… посмотри, пожалуйста, в левом…
Валька достает мой телефон.
– Физрук тут отмечен?
Мое слабое: «Да».
– А что ж сама не позвонила?
– Не могла достать сотик, – сквозь слезы. – Как же ты, Валька? – шепчу непослушными губами. – Ведь ты теперь не победишь.
– Теперь – нет. – Он засмеялся и нажал кнопку вызова.
– Прости, – шепчу я.
– Прощу, когда домой доберемся.
Валькин разговор с Михаилом Антоновичем: да, да, сейчас приедут, снегоход, который дежурит на трассе, забарахлил. «Буран» уже привели в порядок, едут, едут. Пусть Маша держится… – это я услышала, голос физрука в телефоне был громким.
– Холодно, – говорю ледяными, еле живыми губами.
Валька одет легко. Чтобы легче бежать на старте, он сбросил куртку и остался в одном свитере. Сейчас снял с шеи шарф и укутал мне шею. И сам ежился.
Мне было трудно стоять у сосны на одной ноге. Я тихонько сползала вниз, морщась от боли.
– Тебя поддержать? – Он оперся обеими руками о ствол сосны повыше меня.
Его лицо склонилось надо мной. Губы рядом. Посередине нижней – складочка. Из них пар, когда говорит. Мне кажется, что этот пар меня греет.
– Извини, Белоснежка, придется вот так.
В следующее мгновение он меня обнял. Крепко, всю обнял. Он держал меня в своих объятиях, чтобы я не упала на снег. Чтобы было теплее. И мне, и ему теплее.
– Сейчас согреемся, – прошептал, – уже теплее, правда, Снежка?
– Да… да…
Я плачу.
«Снежка». Как славно. Еще лучше, чем «Белоснежка».
– Какая ты смешная… – его губы шепчут возле моего уха, дыхание щекочет меня, – у тебя волосы, как снег.
– Это плохо, – шепчу я, согреваясь от его дыхания, от его тепла. От его слов. От «Снежки».
– Это хорошо. Это красиво.
Его губы уткнулись в мои волосы, в мой лоб.
Он, что, меня поцеловал?
Правда?
Мы услышали тарахтенье снегохода.
Ознакомительная версия.